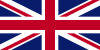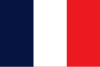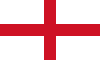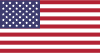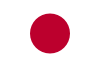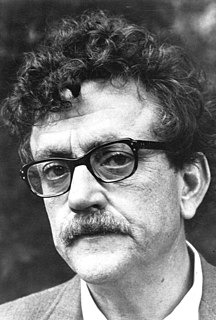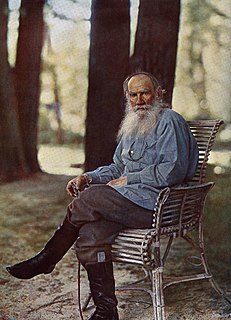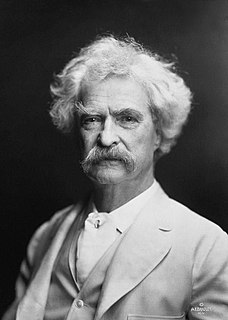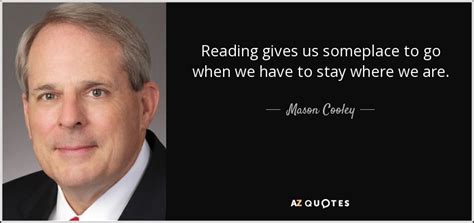Цитата Дениса Уэйтли
Оставаясь сосредоточенным и гибким, вы достигнете и превзойдете свои основные жизненные цели. Успех - это не место отдыха, это стартовая площадка
Связанные цитаты
Подробно запишите свои цели и каждый день читайте список целей. Некоторые цели могут включать в себя список более коротких целей. Потеря веса, например, должна включать в себя мини-цели, такие как вехи в 10 фунтов. Это будет держать ваше подсознание сосредоточенным на том, чего вы хотите шаг за шагом.
Вот почему важно получать удовольствие от путешествия, а не только от пункта назначения. В этом мире мы никогда не придем к месту, где все идеально и у нас больше нет проблем. Как ни замечательно ставить цели и достигать их, возможно, вы не можете настолько сосредоточиться на достижении своих целей, чтобы совершить ошибку, не получая удовольствия от того, где вы находитесь сейчас.
Сосредоточиться на проекте или плане — одна из самых сложных задач, с которыми мы сталкиваемся. Всегда нужно убраться в доме, сделать звонки, постирать белье, уложиться в сроки. На самом деле есть только одна вещь, которая удерживает нас от наших целей — отсутствие концентрации. И очень часто отсутствие внимания вызвано страхом.
Эта сингулярность смысла — я был своим лицом, я был уродством — хотя иногда и невыносимой, также предлагала возможную точку отступления. Это стало стартовой площадкой, с которой можно было взлететь, тем самым узнаваемым местом, на которое можно было указать, когда меня спросили, что не так в моей жизни. Все вело к нему, все удалялось от него — мое лицо как личная точка схода.
Этот Творческий Механизм внутри вас безличен. Он будет работать автоматически и безлично для достижения целей успеха и счастья или несчастья и неудачи, в зависимости от целей, которые вы сами для него ставите. Представьте его с целями успеха, и он будет функционировать как механизм успеха. Предоставьте ему негативные цели, и он будет действовать так же безлично и точно так же, как Механизм Неудачи.