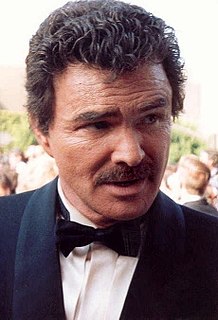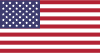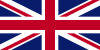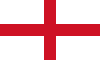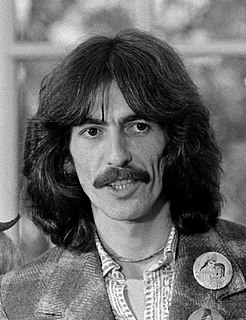Цитата Джеймса Дурбина
Первое, что я подумал, когда узнал, что стал финалистом, было, я не помню, потому что мне казалось, что это был внетелесный опыт.
Связанные цитаты
Для меня в детстве читать киберпанк было все равно, что впервые увидеть мир. «Нейромант» Гибсона был не просто ошеломляющим стилистически; это было похоже на шаблон будущего, который мы активно строили. Я помню, как читал книгу Стерлинга «Острова в сети» и внезапно осознал революционный потенциал технологии, как только она вышла на улицу. Киберпанк чувствовал себя неотложным. Это было не будущее через 15 минут — это было будущее, сбивающее вас с ног и оставляющее вас в гипсе всего тела, когда оно проходило мимо.
Я не помню очень многих вещей изнутри. Я не помню, каково было прикасаться к вещам или как вода в ванне путешествовала по моей коже. Мне не нравилось, когда ко мне прикасались, но это была странная неприязнь. Мне не нравилось, когда ко мне прикасались, потому что я слишком этого жаждал. Я хотел, чтобы меня держали очень крепко, чтобы я не сломался. Даже сейчас, когда люди наклоняются, чтобы прикоснуться ко мне, или обнять меня, или положить руку мне на плечо, я задерживаю дыхание. Я поворачиваюсь лицом. Я хочу плакать.
Я помню, как был на Гавайях, когда отплыл на Гавайи. Было тревожно ходить там, потому что я думал: «Это место может просто затонуть в любую секунду». На самом деле вполне может. Но на самом деле мне казалось, что я — крошечное пятнышко посреди всей этой воды, я чувствую себя таким незащищенным прямо сейчас. Это казалось почти более жутким, чем на лодке, которая представляет собой еще меньшее пятнышко в глуши. Но я чувствовал, что у меня есть некоторый контроль над этой ситуацией.
Всегда наблюдая и всегда двигаясь вперед, будучи дисциплинированным и открытым для нового опыта, я думаю, что именно так я смог разнообразить свою жизнь, потому что, если это казалось мне творческим, я пошел на это. Неважно, знал ли я, как это сделать, я просто делал это, потому что мое творческое сердце тянулось к этому. Кажется, это сработало.
Помню, первое, что я сделал, когда узнал, что нахожусь вне закона, — избавился от своего сильного филиппинского акцента. Я решил, что должен говорить по-белому и по-черному одновременно, как Чарли Роуз и доктор Дре. Если я могу говорить на белом и черном, никто никогда не подумает, что я «незаконный».
Вы сказали: «Я люблю тебя». Почему самое неоригинальное, что мы можем сказать друг другу, по-прежнему остается тем, что мы жаждем услышать? «Я люблю тебя» — это всегда цитата. Вы не сказали этого первым, и я тоже, но когда вы это говорите и когда я говорю, мы говорим, как дикари, которые нашли три слова и поклоняются им. Я поклонялся им, но теперь я один на скале, высеченной из моего собственного тела.