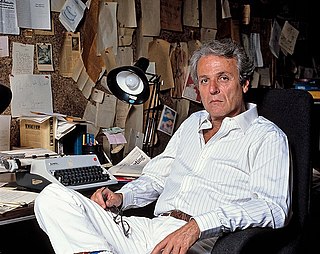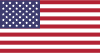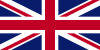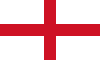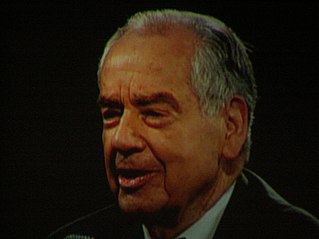Цитата Дж. К. Роулинг
Тишина была для него невыносима. Если бы фотографии могли отражать чувства внутри него, они бы кричали от боли.
Связанные цитаты
Действительно? Кричать? Он пожал плечами. «Это было не так уж плохо. Но были определенно какие-то уроды с обеих сторон. Хотя, если честно, тишина была еще хуже». — Хуже, чем кричать? Я сказал. — Много, — сказал он, кивая. «Я имею в виду, по крайней мере, с аргументом, вы знаете, что происходит. Или иметь какую-то идею. Тишина… это может быть что угодно. Это просто… — Так чертовски громко, — закончила я за него. Он указал на меня. "Точно.
Уэстли закрыл глаза. Приближалась боль, и он должен был быть к ней готов. Он должен был подготовить свой мозг, он должен был контролировать свой разум и защищать его от их усилий, чтобы они не могли сломить его. Он не позволит им сломить его. Он будет держаться вместе против всего и вся. Если бы только они дали ему достаточно времени, чтобы подготовиться, он знал, что сможет победить боль. Оказалось, что ему дали достаточно времени (прошли месяцы, прежде чем Машина была готова). Но они его все равно сломали.
Как ты мог догадаться? Каким бы несчастным ни был Уилл, он чувствовал себя свободным, как будто с него свалилось тяжелое бремя. «Я сделал все, что мог, чтобы скрыть и отрицать это. Ты… ты никогда не скрывал своих чувств. Оглядываясь назад, оно было ясным и ясным, но я никогда его не видел. Я был поражен, когда Тесса сказала мне, что ты помолвлен. Ты всегда был источником таких хороших вещей в моей жизни, Джеймс. Я никогда не думал, что ты будешь источником боли, и поэтому я ошибался, я вообще никогда не думал о твоих чувствах. И именно поэтому я был так слеп.
Она пыталась сказать что-то еще; она пыталась сказать, что неспособность сформулировать свои чувства каким-либо удовлетворительным образом — одна из наших непреходящих трагедий. Это было бы немного и бесполезно, но это было бы что-то, что отражало бы серьезность и печаль внутри нее. Вместо этого она огрызнулась на него за то, что он неудачник. Словно она пыталась ухватиться за валун своих чувств, а в итоге осталась с песком под ногтями.
Боль тонкая. У него холодные серые пальцы. Его голос становится лошадиным из-за плача и крика... Когда люди пытаются избежать его, он молча следует за ними и превращается в бармена или водителя автобуса... У Пейна есть сложная система регистрации, позволяющая отслеживать всех... Пейн уважает людей, готовых рисковать. Если вы... встретитесь с ним лицом к лицу, он даст вам специальную мазь, чтобы ваши раны не гноились.
Я представил себе, как внутри него (во мне) нарастает душевная боль, требующая физического выхода. Самоубийство, должно быть, было его попыткой дать Пейну тело, репрезентацию, поставить его вне себя. Необходимость превратить внутреннюю муку во внешнюю осязаемую рану, которую все могли бы видеть. Это было почти так, как если бы самоубийство было последней попыткой экзорцизма, в которой человек жертвовал своей жизнью, чтобы дьявол внутри мог умереть.
Боль не пугала его. Боль была если не другом, то семьей, чем-то, с чем он вырос в своих яслях, научился уважать, но никогда не уступать. Боль была просто сообщением, говорящим ему, какие конечности он еще может использовать, чтобы убивать своих врагов, как далеко он еще может бежать и каковы его шансы в следующей битве.
Если бы он посмотрел ей в лицо, то увидел бы эти затравленные, любящие глаза. Призрачность раздражала бы его, любовь приводила бы его в ярость. Как она смеет любить его? Неужели она совсем ничего не смыслила? Что он должен был делать по этому поводу? Верни это? Как? Что могли сделать его мозолистые руки, чтобы она улыбнулась? Что из его знаний о мире и жизни могло быть ей полезно? Что могли сделать его тяжелые руки и сбитый с толку мозг, чтобы заслужить его собственное уважение, что, в свою очередь, позволило бы ему принять ее любовь?