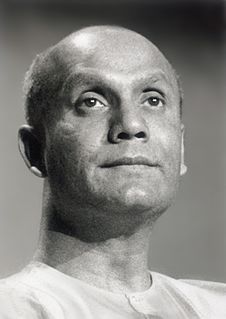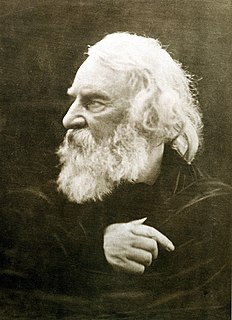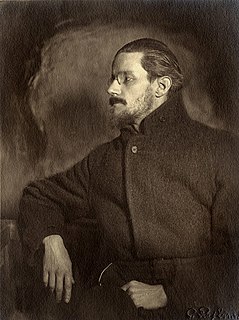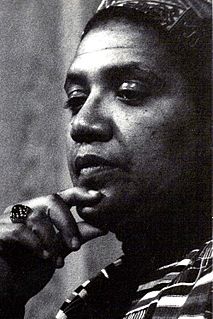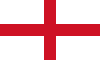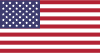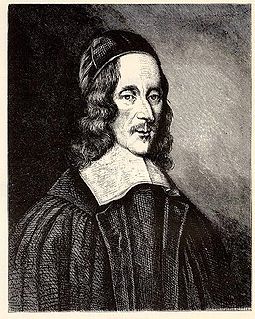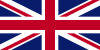Цитата Джона Мильтона
Наступил еще вечер; и сумерки серые Были в ее трезвой ливрее все вещи одеты: Тишина сопровождала; ибо звери и птицы, Они к травянистому ложу, эти к своим гнездам, Прокрались, все, кроме бодрствующего соловья.
Связанные цитаты
Наступил еще вечер, и сумерки серые В своей строгой ливрее все вещи были одеты; Тишина сопровождала; ибо зверь и птица, Они к своему травяному ложу, эти к своим гнездам, Все, кроме бодрствующего соловья, Скрылись; Она всю ночь свою любовную песенку пела; Тишина была приятной. Теперь светился небосвод Живыми сапфирами; Геспер, что вела Звездное войско, ехала ярко, пока луна, Поднявшись в затуманенном величии, наконец, Явная королева раскрыла свой несравненный свет, И над тьмой бросила свой серебряный плащ.
Сладкий был звук, когда часто, в конце вечера, Вон там на холме поднялся деревенский ропот; Там, когда я шел, небрежно и медленно, Смешавшиеся ноты доносились снизу; Мужик откликнулся, как пела доярка, Трезвое стадо, которое мычало, чтобы встретить своих детенышей; Шумные гуси, что галдели над лужей, Игривые дети, только что вырвавшиеся из школы; Голос сторожевого пса, который заливал шепчущий ветер, И громкий смех, который говорил о пустом уме; Все они в сладком замешательстве искали тень, И заполняли каждую паузу, сделанную соловьем.
Ночь за ночью соловей приходил молить о божественной любви, но, хотя роза дрожала от звука его голоса, ее лепестки оставались закрытыми для него... Цветок и птица, два вида, которым никогда не суждено было спариться. И все же в конце концов роза преодолела ее страх, и из этого единственного запретного союза родилась красная роза, которую Аллах никогда не хотел, чтобы мир знал.
Это была весна без голосов. По утрам, когда-то пульсировавшим предрассветным хором малиновок, кошачьих птиц, голубей, соек, крапивников и десятков других птичьих голосов, теперь не было ни звука; только тишина лежала над полями, и лесами, и болотами... Даже ручьи теперь были безжизненными... Никакое колдовство, никакие вражеские действия не заставили замолчать возрождение новой жизни в этом пораженном мире. Люди сделали это сами.
Когда он только начинал — Джим Хенсон, который создал Bid Bird и Oscar — он сказал, что Big Bird был просто большим, тупым парнем. Так оно и было — пришел сценарий, и я сказал: «Я думаю, что Большая Птица была бы гораздо полезнее для шоу, если бы он был ребенком, изучая все то, чему мы учили в сериале». Так вот он даже алфавита не знал, например.
Начинается плач гитары. Кубки рассвета разбиты. Начинается плач гитары. Бесполезно заглушать его. Невозможно заставить его замолчать. Он монотонно плачет, как плачет вода, как плачет ветер над снежными полями. Невозможно заставить его замолчать. Он плачет о далеких вещах. Жаркие южные пески тоскуют по белым камелиям. Плачет стрела без цели, вечер без утра и первая дохлая птица на ветке. О, гитара! Сердце смертельно ранено пятью мечами.
Приходите, вечер, еще раз, время мира; Вернись, сладкий вечер, и продолжай долго! Мне кажется, я вижу тебя на полосатом западе, Медленным шагом матроны, в то время как ночь Шагает по твоему быстрому поезду; одна рука занята, Чтобы бросить завесу покоя На птицу и зверя, другая поручила человеку Сладостное забвение дневных забот.
[Говорить] никогда не бывает без страха; видимости, резкого света пристального внимания и, возможно, осуждения, боли, смерти. Но мы все это уже пережили, в тишине, кроме смерти. И я все время напоминаю себе теперь, что, если бы я родился немым и всю жизнь хранил клятву молчания для безопасности, я бы все равно страдал и все равно умер бы.
Но в ней еще было то, что воспламеняет воображение, еще можно было на мгновение остановить дыхание взглядом или жестом, каким-то образом раскрывавшим смысл обычных вещей. Ей стоило только постоять в саду, положить руку на маленькое крабовое деревце и посмотреть на яблоки, чтобы вы почувствовали, как приятно сажать, ухаживать и наконец собирать урожай. Все сильные стороны ее сердца вылились в ее тело, столь неутомимое в служении великодушным чувствам. Неудивительно, что ее сыновья стояли высокими и прямыми. Она была богатым кладезем жизни, как и основатели ранних рас.