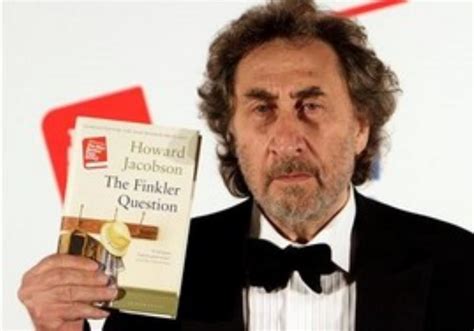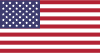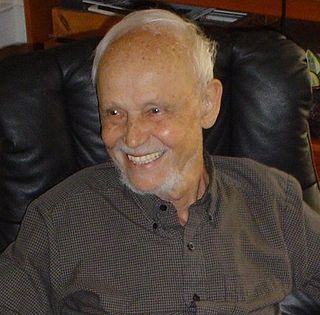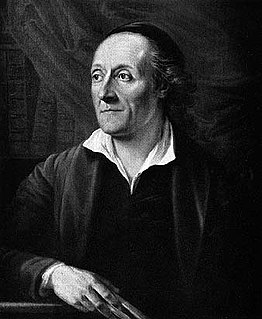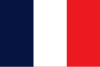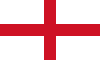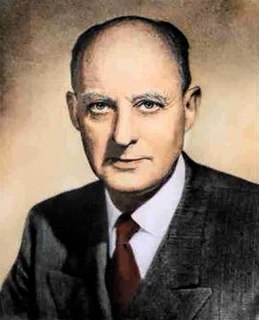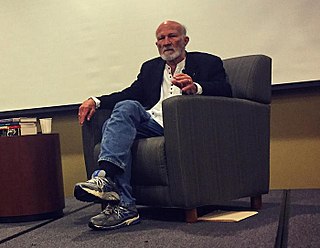Цитата Дэвида Новака
Когда на рубеже двадцатого века возник современный политический сионизм, большинство ортодоксальных евреев выступили против него.
Связанные цитаты
Мы были ортодоксальными евреями, но на самом деле мы этого не заслуживали. Я имею в виду, бекон — мой отец сказал: «Не клади бекон в дом», но у нас был бекон. Мы не соблюдали кошерность. И мы наблюдали, какие сегодня были бы консервативными евреями. Но в те времена мы принадлежали к православному храму. Итак, мы сделали вид, что мы ортодоксальные евреи, но на самом деле мы ими не были.
В основном я выгляжу как многие современные православные люди, которых вы знаете, но я работаю в телешоу, где мне иногда приходится целовать Джима Парсонса. Вот почему я не претендую на звание современного православного, но с точки зрения идеологии и богословия я очень похож на либерального современного православного человека.
Учитывая, что девятнадцатый век был веком социализма, либерализма и демократии, из этого не обязательно следует, что двадцатый век должен быть также веком социализма, либерализма и демократии: политические доктрины уходят, но человечество остается, и оно может скорее можно ожидать, что это будет век власти... век фашизма. Ибо если девятнадцатый век был веком индивидуализма, то можно ожидать, что это будет век коллективизма и, следовательно, век государства.
Сегодняшний дядя Том не носит платок на голове. Этот современный дядя Томас двадцатого века теперь часто носит цилиндр. Обычно он хорошо одет и хорошо образован. Он часто является олицетворением культуры и утонченности. Дядя Томас двадцатого века иногда говорит с акцентом Йеля или Гарварда. Иногда его называют профессором, доктором, судьей и преподобным, даже достопочтенным доктором. Этот дядя Томас двадцатого века — профессиональный негр, я имею в виду, что его профессия — быть негром для белого человека.
Это был долгий путь от платоновского «Менона» до наших дней, но, возможно, обнадеживает тот факт, что большая часть прогресса на этом пути была достигнута с начала двадцатого века, а значительная его часть — с середины века. Мысль оставалась совершенно неосязаемой и невыразимой, пока современная формальная логика не интерпретировала ее как манипулирование формальными символами. И казалось, что он по-прежнему обитал в основном на небесах платонических идеалов или в столь же темных пространствах человеческого разума, пока компьютеры не научили нас, как машины могут обрабатывать символы.