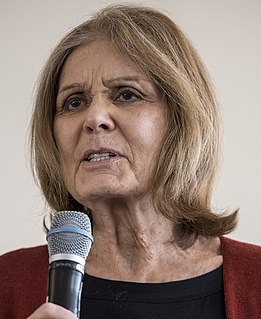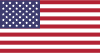Цитата Курта Шиллинга
Я хотел создать рабочие места и создать что-то, что имело бы долгосрочный эффект изменения мира. Мы были близки. Мы были близки к тому, чтобы добраться туда. Он просто развалился.
Связанные цитаты
Я просто закрываю глаза и веду себя как трехлетний ребенок. Я стараюсь максимально приблизиться к детскому уровню, потому что тогда мы все были художниками. Так что вы просто закрываете глаза и вспоминаете то время, когда вы были настолько молоды, насколько вы себя помните, и у вас было меньше всего препятствий для вашего творчества.
У меня есть очень близкий друг, блестящий клоун, и я всегда хотел устроить с ним шоу. Так я провел один год в La MaMa Theatre. Я не ходил на ходулях до этого шоу, и у меня было около двух недель, чтобы научиться этому, и они были просто сделаны на бродвейские деньги. Те, что были у меня в Rogue One, были сделаны [Industrial Light & Magic]. Так что они были действительно легкими. Они были сделаны с настоящими протезами стоп внизу. В каком-то смысле они были спортивными. Я мог бегать в них. У них был отскок, который я мог использовать.
Я бы не сказал, что антропологи занимались искусством, но они определенно оправдывали свою практику очень личными рассуждениями, страстью, а также экспериментировали с формой. Было ощущение, что ты пытаешься быть максимально искренним, независимо от того, исследуешь ли ты что-то далекое или очень близкое.
Он хотел не только услышать о Хейлшеме, но и вспомнить Хейлшема, как будто это было его собственное детство. Он знал, что близок к завершению, и именно это он и делал: заставлял меня описывать ему вещи, чтобы они действительно проникали в его душу, чтобы, может быть, в течение тех бессонных ночей, с наркотиками, краской и истощением, грань между моими воспоминаниями и его воспоминаниями стиралась.
Мои родители были очень, очень близки; они почти выросли вместе. Они родились в 1912 году. Они были друг у друга единственными парнем и девушкой. Они были, если использовать современный термин, который я ненавижу, созависимыми, и они заполучили меня очень поздно. Так что у них был свой способ делать вещи, и они усиливали друг друга.
Суть построения собственного бренда. Люди, услышавшие о вас и создавшие положительное впечатление, еще до того, как вы с ними познакомились. Если вы можете создать такой эффект, перед вами откроются двери. Ближайшее второе место, если это невозможно, это то, что люди очень быстро получают хорошее впечатление о вас, когда они ищут вас в Google.